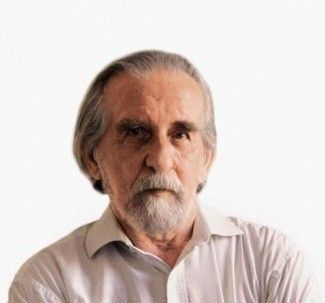Война вторгается в дома, где находимся не только мы, их обитатели, но и наши вещи. Война показывает, что мы живем в непрочных коробках — они распадаются на куски под напором насилия, а все, что находится внутри, рассыпается из них, как конфетти. Военный пейзаж — это руины, пепелища и груды предметов, которые история остановила во времени. Они перестали быть стаканами, одеждой, книгами, столами и стали носителями травматичного повествования, увечным следом прошлого, замкнувшегося в них навсегда, перенесенного из камерной индивидуальной истории в большую повесть о непостижимой общей беде.
Уцелевшие
Я просматриваю репортажные снимки из фотоагентства Getty за два с лишним года полномасштабной войны в Украине. В поисковик я вбила: home, things, ruined, war, Ukraine. Выпотрошенные дома, на земле валяются предметы, которые никто не сложил в пакет, не спрятал за пазуху, не закинул на трактор или грузовик. Брошенные на произвол судьбы, без шансов на то, что их спасут. Ведь уцелеют лишь те предметы, которые кто-то сочтет необходимыми — решающим будет рефлекс сентиментальности или выживания.
 Часов Яр. Источник: AA / ABACA / Forum
Часов Яр. Источник: AA / ABACA / ForumЯ смотрю на фотографию, запечатлевшую место временной могилы. В кучке вещей лежат: детский плюшевый слоник, блокнот, розовый тапок, ботинок, цветочный горшок. Я думаю о том, как невелики шансы у этих предметов — так мучительно одиноких, перемешанных согласно логике смерти, а не жизни, сфотографированных как элемент военного пейзажа — дотянуть до послевоенного времени. Насколько маловероятно, что кто-то наклонится, соберет их и отнесет в учреждение, которое впоследствии сделает их объектом коллективной памяти.
В Музее Варшавского восстания проходит выставка «Реальное». Она представляет 80 предметов, рассказывающих о том, чем для города и его жителей было восстание, его взлет и разгром. Это собрание обычных предметов, которые стали местом исторической фиксации 80 лет назад, однако их свидетельство звучит до боли современно.
 Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстания
Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстанияВ течение нескольких последних месяцев я осматривала предметы, которые отбирались для экспозиции. Все они уцелели, потому что кто-то решил, что именно их нельзя оставить среди развалин, в покинутом доме. Кто-то в какой-то момент их забрал — во время бомбардировки или после подавления восстания, после окончания войны или во время восстановления города из послевоенных руин.
В фондах музея хранится больше тысячи предметов — частично это находки музейщиков, но в большой степени также дары частных лиц, которые позаботились о той или иной вещи, увидели в ней носителя памяти, свидетеля, и решили, что она уже не принадлежит им лично и должна стать публичным экспонатом.
Это вещи совершенно разные — например, кукла, пудреница, велосипед, бутылка, деревянная ложка, чашка, вилка, картина, очки, ботинки, брелок для ключей в форме таксы, письма, сигареты — и в то же время у них есть нечто общее: они теперь не совсем личные, собственные, заурядные, теперь это вещи чрезвычайного положения — войны. Повседневные, но в то же время особенные, потому что их определяет то, что они уцелели так же, как люди, которым выпало пережить войну.
 Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстания
Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстанияГолоса свидетелей
В реставрационной мастерской я надеваю голубые перчатки и осторожно беру удостоверение Банка национальной экономики, выписанное на имя Юлиуша Райнера. Рядом с ним лежит маленький полотняный мешочек. Я узнаю́, что удостоверение, пробитое винтовочной пулей, принадлежало упомянутому в нем Юлиушу, но окровавленный мешочек для личных вещей — Виктории Райнер. Супруги Юлиуш и Виктория были расстреляны 7 августа 1944 года вместе с жителями трех домов на проспекте Независимости — 217, 219 и 221. Их останки захоронены во временной могиле. Документ и мешочек лежали возле их тел — печальные доказательства их идентичности и жизни, единственные и скудные, но упрямо существующие.
Веслав Кемпиньский, Веслав Кемпиньский (1932–2023) — польский писатель. Его родители погибли во время Вольской резни — массового убийства немецкими войсками жителей варшавского района Воля. Кемпиньского усыновили Анна и Ярослав Ивашкевичи. который рассказал о своем опыте восстания волонтерам архива музея, помнит предметы как свидетелей-обвинителей.
Я шел в полубессознательном состоянии, уверенный, что застану трупы. Это был страшный опыт. Вот эта книжечка, которую я нашел на месте казней, — книжечка больничной кассы, где на последней странице были фотографии отца и матери, даже след есть, она пролежала столько времени. Кто-то вынул ее из кармана или, возможно, она выпала из кармана отца, когда трупы переносили чуть подальше, на кладбище, чтобы сжечь, и так она существует до сих пор, как реликт времени.
Среди показанных на выставке предметов оказался и кожаный чемодан — трудно найти более красноречивый символ военной судьбы: ты вынужден бежать, оставить свою жизнь, и ты запихиваешь туда только то, что поместится, что можно унести — и буквально, и в переносном смысле. Содержимое чемоданов — это сумма рациональности, интуиции и страха.
У мамы было два чемодана. Маленькие чемоданчики. Один — желтый, из свиной кожи, а второй — коричневый. В коричневом были все документы, все памятные вещи, дипломы и так далее. В свиной коже была книжка, первая в моей жизни, про ангела-хранителя, немного старых фотографий, бальное платье моей мамы и скатерть, вышитая монахинями, которые спасали еврейских детей… В Прушкуве нас посадили в товарный поезд, в открытый вагон, и мы ехали где-то двое суток, а дождь лил немилосердно, и мы эту скатерть над собой держали, выкручивали, и теперь я ее на каждое Рождество расстилаю.
Некоторые предметы были найдены, когда осела пыль войны и люди, бежавшие из столицы, начали возвращаться к тому, что осталось от их домов. Охваченные отчаянием и, в то же время, полные надежд, они возвращались, чтобы подвести баланс утрат и чудес. Чудеса были единичными.
 Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстания
Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстанияПредметы, которые уцелели в бомбардировках, как правило быстро разворовывались мародерами — они уже не принадлежали никому, а значит были общими; по логике военной разделенности пригодиться могло все, правила морали временно перестали действовать. И захватчики, и товарищи по несчастью — мародерствовали все.
Алина Шудлярек-Сарнацкая спустя много лет рассказала в беседе с волонтеркой музея, что случались, однако, и по-настоящему неожиданные открытия.
У нас дома была огромная хрустальная ваза. Мама эту хрустальную вазу завернула в свое платье, и ваза лежала в подвале под сервантом. Не знаю, бабушка это сделала или кто, но когда мы вернулись и мама пошла в подвал, платья под сервантом не оказалось, но ваза была на месте. И она до сих пор у меня.
И еще одна история — о том, сколь удивителен механизм военных разрушений, основанный на непредсказуемости. Свидетельница восстания Мария Буньда вспоминает, что на время боев столовый фарфор они спрятали в диван, потому что их предупредили, что в серванте посуда непременно побьется, когда будут взрываться гранаты или взрывчатка.
Мама все сложила в диван. Не прошло и двух дней — первые дни восстания — влетает зажигательная бомба. Выглядит это так: окно, влетает бомба, делает дыру, каким-то чудом летит влево и попадает прямо в посуду, которая превращается в месиво, а зажигательная бомба не взрывается. Бабушка, как это увидела, зашлась таким истерическим смехом, что не могла успокоиться.
На одном из репортерских снимков, который мне выплевывает поисковик агентства, на фотографии с линии фронта в Донецкой области я вижу украинский фарфор — он стоит нетронутый в серванте, под ним побитые вещи, хаос, руины. Забрал ли его кто-нибудь потом оттуда, буду ли я через несколько лет смотреть на него в витрине как на чудо?
Пока что жильцы устраивают в руинах своих квартир и домов временные хранилища, заселяются в них, одомашнивают заново. Новую жизнь можно склеить из чего угодно — может, она и временная, но, слава Богу, она продолжается. Из обломков прежних квартир строятся новые промежуточные жизни, предметы изменяют свои функции. Города и вещи уже не совсем мертвы, но и не совсем живы. Они ждут, существуют в режиме борьбы и бегства.
 Бородянка после деоккупации. Фото: Евгений Приходько / Новая Польша
Бородянка после деоккупации. Фото: Евгений Приходько / Новая ПольшаНа руинах таких городов, как Буча и Ирпень, открываются точки раздачи еды, маленькие маникюрные пункты. Люди готовят последние партии закруток с бахмутской солью — бо́льшая часть города уничтожена, неизвестно, восстановится ли производство. А значит, это уже не только приправа, но и память.
 Брошенный велосипед, Авдеевка, 2023. Источник: AA / ABACA / Forum
Брошенный велосипед, Авдеевка, 2023. Источник: AA / ABACA / Forum Культуроцид
Вещи — это еще и носители культуры. Хрупкие стены, в которых они хранятся, могут обвалиться, независимо от того, стены ли это жилой многоэтажки, библиотеки или музея. Уничтожается ли бытовая, личная культура или культура сообщества — всякий раз это культуроцид. Термин, который в 1948 году ввел в гуманитарные науки и юриспруденцию польский юрист Рафал Лемкин, до сих пор остается пронзительно актуальным — война отбирает жизни у индивидуумов, а к тому же уничтожает повседневность и наследие, которое они создавали.
Достаточно нескольких секунд бомбардировки — и нет объектов, хранивших память сотни лет, и при этом не раздалось и стона. Вещи гибнут беззвучно, покорно, без слова жалобы, ценные и беззащитные, доверчивые. Хотя почти 80 лет назад благодаря Лемкину мы назвали их особую смерть, мы по-прежнему не можем их от нее уберечь.
 Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстания
Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстанияНа выставке в Музее Варшавского восстания кураторы разместили остатки колонны Сигизмунда III Вазы с современной площади перед Королевским замком. Колонна была разрушена в начале сентября 1944 года. Памятник развалился на части: капитель, импост, цоколь вместе с прикрепленной к нему фигурой короля. Стержень колонны распался на три фрагмента, пьедестал был полностью разрушен, многочисленные повреждения были видны и на фундационной плите. Разрушение колонны для многих жителей Варшавы стало переживанием распада оси мира их сообщества — на их глазах пал символ непрерывности истории города, его опознавательный знак.
Я сбежал вниз и уже сбоку от дула думаю: если ударит по зданию, максимум только тряхнет, а осколки в меня не попадут. Выстрел. Снаряд ударил в дом, все зашаталось. Потом второй удар — прямо в этот дом. Я смотрю: стоит танк напротив домов, в третий раз стреляет, попадает в колонну Сигизмунда. Он целился в колонну. Она пошатнулась и, расколовшись на части, рухнула на площадь.
Когда памятники, которые кажутся неотъемлемой частью пейзажа — физического и культурного, — падают под натиском войны, вместе с ними исчезает чувство стабильности, которое простирается глубже и дальше, чем семейная память, чем актуальная политика — в этом смысле их утрата болезненнее, потому что они как бы невинные, не из этого времени, без смысла, без всякой причины вписаны в этот пейзаж, как дерево или река.
Каких-то два года назад автоматной очередью россияне пробили голову Тараса Шевченко на центральной площади Бородянки, в 60 километрах от Киева, а весь городок сровняли с землей. Министерство культуры и информационной политики Украины несколько месяцев назад сообщило, что российская армия уничтожила (пока что) около 100 музеев, порядка 20 памятников, 120 мест религиозного культа, 600 библиотек. Россияне считают, что украинского народа не существует, так зачем ему памятники, зачем ему музей литературы в Одессе, зачем театр в Мариуполе…
 Разбомбленный россиянами театр в Мариуполе. Источник: wilno.tvp.pl
Разбомбленный россиянами театр в Мариуполе. Источник: wilno.tvp.plКультуроцид — это также лишение возможности совершать важные социальные ритуалы. Выпускница позирует среди руин своей разрушенной школы в Харькове. Ей подражают сверстницы — позируют в элегантных платьях на фоне развалин. Эти кадры становятся вирусными, будоражат воображение. Война отбирает форму у жизни, но эти образы на грани возможного полнее всего выражают глубину ее жестокости.
Культуроцид — это потребность стереть все повествование, не только его материальное воплощение, но и его корни и потенциальность: должны исчезнуть не только люди, но и культура, чтобы ее нельзя было восстановить.
Я смотрю на очередную фотографию из Донецкой области, от 14 февраля 2024 года, — банки, подготовленные для закатки, стоят пустые, утопая в снегу. Сюрреалистический образ, одновременно чистый и пугающий.
 Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстания
Выставка «Реальное» в Музее Варшавского восстания. Источник: Музей Варшавского восстания*
Я чувствую странную неуместность и, в то же время, непреднамеренно вторгающийся в современность характер выставки «Реальное» к годовщине Варшавского восстания, исторической по замыслу, но в своей реализации действующей как комментарий к войне, которая продолжается год за годом, человек за человеком, вещь за вещью.
Я вспоминаю текст песни Пи Джей Харви, которым она прокомментировала другой страшный геноцид современного мира — войну на Балканах.
Песня Ministry of Defence («Министерство обороны»), написанная почти десять лет назад, — это универсальный комментарий к тому, чем неизбежно становятся военные разрушения — и те, что ушли в историю, и современные: всегда это конец чьего-то мира.
Это министерство уцелевших вещей –
Старые журналы, нож для овощей,
Клочья волос, банки от напитков,
Пластмассовая ложка, шприцы и бритвы,
Белая челюсть, побитые стекла,
Да призрак девчонки, что пряталась около,
Нацарапан ручкой на стене среди дыр —
Так вот и закончится этот мир.
Перевод Сергея Лукина